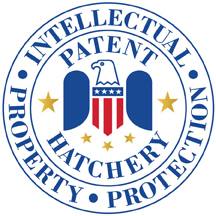Рубрики, в которых путешественники рассказывают о том, как устроена жизнь в других странах, — самые популярные в газетах. Научный сотрудник лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Ольга Пинчук совершила путешествие в другую социальную страту. Больше года она проработала на кондитерской фабрике, изучая рабочую жизнь изнутри. Главный вывод: с советских времен на производстве практически ничего не изменилось. Те же самые проблемы, то же противостояние «верхов» и «низов». Что-то стало даже хуже. «Лента.ру» записала рассказ социолога о том, кто такие современные пролетарии и почему завод — это маленькая модель нашей страны.
По заказу правительства мы исследовали отношение населения к повышению пенсионного возраста у льготных категорий граждан. В данном случае это были рабочие вредных производств. Вопрос был с заковыркой: спрашивали, что если пенсионный возраст увеличится не у них, а у их детей, которые могут прийти работать на тот же завод. Ответы работников одного из шахтерских предприятий Башкирии нас ошеломили. Почти все ответили: пожалуйста, увеличивайте. Это очень отличалось от данных из других мест. Интересно, что в личных беседах о пенсионных реформах все отзывались негативно. Выяснилось, что анкеты люди не воспринимали как документ, отношение к ним было несерьезное. Выяснилось даже, что менеджмент среднего уровня решил: раз опрос проводят москвичи — значит, они хотели бы получить положительные высказывания об увеличении возраста. И стали на нужный результат влиять, иногда даже сами заполняли опросники.
Когда мы общались с местными жителями, было видно, насколько у менеджеров и рабочих разные точки зрения. Разрыв огромнейший. И эту пропасть мы увидели всего за две недели общения. Тогда мы стали думать, а какой результат может получиться, если подольше находиться в этой среде. Родилась мысль о включенном наблюдении — то есть начать жить как обычный рабочий человек, чтобы понять специфику и логику изнутри.
Конфетная фабрика недалеко от Москвы была третьим местом, куда я пришла. Для меня она оказалась самой удобной, потому что находилась рядом с местом, где я тогда жила. Я устроилась на самую низшую позицию — упаковщицы. Зарплата была хорошая для Подмосковья, даже выше средней. На руки получалось 35-40 тысяч. Если что — можно было увеличить ее с помощью подработок.
В моем цехе упаковки конфет был женский коллектив. В основном дамы 35-45 лет, но встречались и предпенсионного возраста. Практиковалось две формы занятости: постоянная и вахтовая. В последнем случае приезжали на работу люди практически из всех регионов, особенно из сельской местности. Вахтовики месяц-два отрабатывали, потом — назад. Говорили, что у себя они не могли ничего заработать, максимум 10-15 тысяч, а тут почти в три раза больше. Предприятие предоставляло им бесплатное место в комнате заводского общежития.
До этого исследования я не имела четкого представления о том, кто такие рабочие, чем они живут. Но спустя несколько дней выяснилось, что у меня имелись стереотипы — видно, записанные где-то на подкорке. Это те вещи, с помощью которых горожане конструируют образ рабочего: нецензурная лексика и пьянство. Мат действительно присутствовал, и даже больше, чем я привыкла. А вот употребление алкоголя в моем коллективе даже порицалось. Если тебе не на работу завтра и ты можешь контролировать себя — пей. Нет — лучше не притрагивайся.
Внешний вид и манеры коллег — обычные. Я вела дневник, работая на фабрике. После пары недель написала, что если бы эти женщины встретились мне на улице, никогда бы не подумала, что они заводские рабочие, таскают тяжелые лотки с конфетами и умело орудуют отвертками и шестигранниками. Многие дамы следят за собой, очень хорошо выглядят, модно одеваются.
Первоначально у нас была задумка составить типажи рабочих, но этого не получилось. Все траектории и судьбы разные. Кто-то попадал на завод, потому что там уже работали знакомые. Для кого-то это — ближайшее к дому предприятие, у других — судимость, вынужденный переезд из другого региона, какие-то другие неприятности в жизни, с которыми сложно устроиться где-то еще. Были примеры перехода из советской заводской бытности в российскую.
Очень часто я замечала, что коллеги, склонные к управленческим ролям, не стремились куда-то выбиться. Когда ты рабочий, получаешь в принципе нормальные деньги и отвечаешь только за себя. Станешь мастером — все: чуть что случилось — ты должен все разрулить, решить. Дергать могут круглосуточно. Возможно, прибавится зарплата, но и ответственность другая. Поэтому многие решают, что дополнительный доход нервотрепку не компенсирует.
От коллег я много слышала о том, что в советское время в техникумах и технических университетах была хорошо поставлена система практик. Студенты на месяц-два ездили работать на реальные производства и получали опыт — то есть в условный офис без производственного опыта нельзя было попасть. А сейчас эффективными менеджерами становятся прямо с институтской скамьи.
Сталкиваюсь с тем, когда менеджеры пренебрежительно говорят о рабочих, утверждая, что они ленивы, сами выбрали свою судьбу, не хотят учиться, развиваться. Саморазвитие — это заморочка как раз самих менеджеров, которые постоянно развиваются-развиваются-развиваются. А толк их «развития» — в многочисленных бумажках, красивых словах, но только не в квалифицированных решениях. Рабочие это прекрасно считывают.
На моей конфетной фабрике была претензия на автоматизацию. В цехе стояли машины, которые лет 15 назад списали за границей. Согласно инструкциям машины должны работать самостоятельно. Оператор при них — это всего лишь наблюдатель, который время от времени нажимает на кнопки, меняет раз в час бумагу. Но оборудование изношено, поэтому свои функции оно не выполняет. Оператор делает практически все вручную, да еще ему приходится постоянно отлаживать работу этих машин. Реформы, которые спускаются сверху, исходят не из реальности, а из того, что станки — суперсовременные.
Почти все спущеные сверху решения напичканы абсурдом. Например, механизмы машины в течение дня нужно протирать от налипшего шоколада. Для этого рабочие пользовались хлопковыми тряпками. Потом кто-то из менеджеров решил, что нитки из тряпок могут попасть в продукцию. Прецедентов, кстати, вообще ни разу не было. Закупили тряпки из современного нетканого материала, без ниток. Материя оказалась очень тонкой — реформаторы ведь не учли, что эти тряпки рабочие надевают на узкие металлические шпатели, чтобы иметь возможность почистить механизм там, куда не долезть рукой. Новые тряпки мгновенно рвались. В результате все равно приходилось доставать из шкафов старые. Руководство злилось.
Есть примеры, когда в случае перевыполнения плана норматив просто увеличивали. Когда я на первом месяце своей работы, увлеченная процессами постижения профессии, быстро упаковывала конфеты, ко мне подошли коллеги и сказали: «Ты давай тут потише, не надо слишком усердствовать». Я-то не понимала нюансов — думала, помогаю родному предприятию. Но потом они мне говорят: «Ты молодая, шустрая, можешь быстро работать. А вон Лене 65 лет, она не сможет с такой скоростью собирать. Если поднимут планку, то всем».
Из-за нулевой обратной связи попытка менеджмента улучшить показатели производства все время выглядела неуклюжей. При мне была проведена реформа рабочего времени. Первоначально все работали по восемь часов в три смены: неделю с утра, неделю с обеда и неделю в ночь. Потом — по 12 часов два дня днем, два — ночью. Второй график оказался более щадящим, но чтобы его соблюдать, не хватало кадров. Чтобы станки не оказались пустыми, рабочих из других смен чуть ли не умоляли выходить на подработки. Когда я уже уволилась, цех вернулся к прежнему рабочему ритму. Это было смешно. Ведь еще при внедрении нового режима смен рабочие предупреждали, что людей нет.
В цеху были две параллельные реальности. Первая — формальные нормы, прописанные в инструкциях, которые без устали плодил офис. Большинство из них на практике были невыполнимы. Чтобы выживать, цех такое бумаготворчество игнорировал — как в ситуации с тряпками без ниток. Например, в инструкции сказано, что если конфета с трещиной, ты должен ее выбросить. Но ты понимаешь, что так в корзину может попасть 90 процентов продукции — станки такие.
А если пойдешь и скажешь об этом, то начальство, не понимая или делая вид, что не понимает, насколько это масшабно, скажет: «Вызывай механиков, пусть ремонтируют». Понятно, что это точечное решение проблемы, оно погоды не делает. И ты маневрируешь. Это откидываешь, другое оставляешь, потом еще чуть нормальных конфет в коробку подкинешь — и вроде все хорошо. О формальных требованиях вспоминают только в том случае, когда аудитор или кто-то из начальников спускается в цех. Здесь, как, впрочем, и на многих предприятиях, идеально сработала бы «итальянская забастовка»: предельно строгое исполнение рабочими должностных обязанностей и формальных правил.
Техника безопасности предписывает нажимать на кнопку «стоп», если машина вдруг зажевала упаковку, и лишь после этого устранять проблему. Но с точки зрения неформальных правил цеха машина стоять не должна, иначе весь цех может не выполнить норму. Как говорила одна моя коллега, делай что хочешь, хоть пяткой туда лезь, но не останавливай. Потому что остановка может длиться 5-40 минут, а если быстро чем-то подцепишь застрявшую коробку (не нажимая на «стоп») — 30 секунд. Это «быстро» может закончиться травмой. Но в этом случае окажется, что работник сам виноват — инструкцию ведь нарушил. Хотя на уровне здравого смысла возникает вопрос: какой интерес человеку совать руки в работающую машину? Он ведь не по собственной блажи лезет туда, а из-за негласных правил.
Поскольку наш завод входил в иностранную сеть, там многое было завязано на корпоративной культуре. Для рабочих разработали «Кодекс делового поведения». Он забавлял всех: нецензурная лексика запрещена, все обращаются друг у другу только на «вы». Поскольку у нас как бы западное производство — отчеств при обращении мы не используем. Рабочие все это считали дикостью. Представьте: у них и так все не слава богу с машинами, так еще и культурно их пытаются перестраивать. Но, опять же, бурчали в безопасном месте — между собой.
Наверху культурного диссонанса не замечали. При этом усиливался бумагооборот, который должен был показать, как все замечательно. В цеху стояли компьютеры. Рабочих обязывали после смены заполнять миллион отчетов. Например, сколько раз машины ломались и как долго их чинили. «Да я что, секретарь, что ли?!» — каждую смену в негодовании кричала старшая моей смены. Но, естественно, если поломки ликвидировались неофициально, без вызова мастера, в отчеты сведения об этом не попадали. То есть статистика, на основе которой менеджеры анализировали работу цеха, была недостоверной. И чем выше уровень менеджмента, тем больше все замазано. Вместо реальной информации — социально одобряемая.
Сегодня в архивах можно найти дневники советских рабочих. Эти тексты нередко пронизаны чувством принадлежности всех и каждого к общей цели: рабочие видели, ощущали свой вклад в развитие государственной промышленности. Они ощущали себя неотъемлемой частью большой машины. И, казалось, за-ради этой идеи трудились. У современников нет никакой идеи. Они знают специфику своего цеха и идентифицируют себя исключительно с малыми группами — бригада, участок, цех. А что делает офис, отдел сбыта, маркетинговый отдел, плановый отдел и т.д. — для них непонятно. Какое место завод занимает в международном рейтинге, на какой рекорд по продажам бренд вышел в прошлом квартале — это все не считается важным.
Поэтому офис для рабочих цеха — бездельники, бюрократы. Особенно те, что не связаны напрямую с производством.
За несколько месяцев до своего увольнения я пришла к руководству завода и рассказала о своем исследовании. Для более полной картины мне хотелось поговорить с менеджерами, понять, что они думают о ситуации. Но для них в такой моей инициативе содержалось много рисков. Они не понимали, чего от меня ожидать. Мне сказали: «То, что ты там сама наблюдала — это твое дело, но чтобы нам тратить на тебя свое время, мы должны понимать, какая от этого выгода».
Когда я рассказываю о своем фабричном опыте, многие периодически говорят: «Ну и что нового вы открыли своим исследованием? Оно все так со времен Джека Лондона, зачем говорить об этом? Все до вас написано!» Но ведь настораживает именно то, что оно не меняется. И это важно. Именно это надо проблематизировать. А то выходит точно так же, как у меня на заводе, когда рабочие в кулуарах недоумевают: «Все и так обо всем знают! Зачем жаловаться? Ничего же не исправишь!» И если вдруг ты начинаешь говорить об этом вслух, предпринимаешь какие-то пусть неловкие шаги на пути к решению проблемы, тебя неминуемо маркируют «молодой и глупой», «не от мира сего» или череcчур смелой и потому сумасшедшей. Начинают опасаться — как бы чего не вышло, как бы хуже не сделалось. Так и с этим исследованием.
«Мы стоим на месте»
О том, что из себя представляет современный рабочий класс, «Ленте.ру» рассказал директор аналитического «Левада-Центра» Лев Гудков
«Лента.ру»: ?? Во времена СССР рабочие считались самым многочисленным классом общества. Сейчас как?
Лев Гудков: Это во времена СССР. В постперестроечное время резко сократилось число квалифицированных промышленных рабочих — с трети до 19-20 процентов всех занятых россиян. Сейчас о рабочих никто не говорит как о передовом классе, их взгляды не считаются важными и значимыми.
То есть по сравнению с советскими временами престиж рабочих упал?
Конечно. Кроме того, структура современного общества изменилась. В послебрежневское время людей с высшим образованием среди занятых было 6-8 процентов, сейчас — 27. Поскольку в советские годы численность рабочего класса была высокой, к нему апеллировала государственная идеология, их потребность выступала как норма жизни для всех остальных. Хотя потребность была очень скромная, максимум — двухкомнатаная квартира на семью и т.д. Сейчас совершенно изменилась система ориентации, потребительских запросов. Норма выше. Реклама нам транслирует, что хорошо иметь пароходы, виллы, самолеты.
В прессе сейчас транслируется, что многие рабочие хорошо зарабатывают, гораздо лучше офисного среднего класса.
Поверьте, таких совсем немного. Это очень тонкий слой высококвалифицированных рабочих. Поскольку промышленность в загоне, то 45-50 процентов оборудования на наших предприятиях устарело либо физически, либо морально. Соответственно, запрос на квалифицированную рабочую силу, связанную с новыми технологиями, очень слабый.
Экономика не развивается, и запрос на новые специальности, на новое качество профессий просто не предъявляется. Поэтому у нас огромная доля низкоквалифицированного физического труда с низкими зарплатами и чувством колоссальной социальной неудовлетворенности.
Что еще тут важно? Взгляды, оценки, настроения рабочих выступают как средние для всей страны. Если в быстроразвивающихся европейских странах политические убеждения, стандарты основаны на представлениях среднего класса, то у нас базовое настроение всей страны транслируют рабочие. Их взгляды на власть, на религию, на запад — базовые для нашего общества.
Что это за взгляды?
Очень консервативные. Наше общество пассивно. Примерно 85 процентов граждан считают, что они не в состоянии влиять на решения власти, которые касается их жизни. Когда мы спрашиваем: «А хотели бы вы принимать участие в политике?» — те же самые люди говорят, что не хотят. Апатия, дистанцирование от политики, отказ от ответственности — наиболее характерная стратегия жизненного поведения, приспособление к репрессивному государству. И это как раз характерно для заводов, где используется низкоквалифицированный труд. Фабрика — это такая солдатская казарма.
Но ведь раньше пролетарии считались двигателем прогресса.
Это представление характерно для XIX века, времен промышленной революции в Англии. Сегодня другие профессии, социальные роли являются показателями развития.
«Включенное» социологическое исследование показало, что со времен СССР у рабочего класса остались те же самые проблемы. Что это значит?
То, что ничего не изменилось, — очень важный вывод. Он означает, что мы стоим на месте, стимулы к развитию подавляются. Меняются люди, поколения, технологии, а ощущение стагнации остается. Это важная характеристика для социальной системы.
Я приведу только две цифры, которые были озвучены на Гайдаровском форуме. В последний год правления Ельцина государство контролировало 25 процентов всех активов, шли процессы приватизации, возникала масса новых производств, которые заимствовали западные технологии. Сейчас государство контролирует 71 процент всех активов. Резко увеличилась доля государственно-зависимых предприятий, подпитываемых через распределение нефтяной ренты. Им не нужно повышать свою доходность через инновации. Государство консервирует архаические производства, не стимулирует движение бизнеса.